И так....
…Я медленно шел по Китайскому проезду к площади Дзержинского. Я был слегка оглушен всем, что я сегодня услышал, но мне почему-то не было ни обидно, ни грустно – скорее противно!
К чиновной хитрости, к ничтожному их цинизму я уже давно успел притерпеться. Я высидел сотни часов на сотнях прокуренных до сизости заседаний – где говорились высокие слова и обделывались мелкие делишки.
Но такой воистину дикарской откровенности, такого самозабвенного выворачивания мелкой своей душонки, которое продемонстрировала Соколова, мне до сих пор не приходилось еще ни видеть, ни слышать.
http://www.youtube.com/watch?v=lrDLY6PKwWQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rbvSM0ra5Wk
Со мною – о моей пьесе, о проблемах типического и о национальном вопросе – говорила, в сущности, та самая знаменитая кухарка, которая,
по идее Ленина, должна была научиться управлять государством.
…В раннем детстве, в первых классах школы, мы разучивали и пели на уроках пения песню с такими восхитительными строчками:
Чтобы каждая кухарка
Не коптела б, как дикарка,
А училась непременно
Управлять страной отменно!..
Вот она и научилась! Вот она и управляет!
Это же так просто – управлять страной: выслушивай мнение вышестоящих товарищей и пересказывай их нижестоящим товарищам. Нечто подобное происходит на всех этажах, на всех ступенях огромной пирамиды, называемой «партией и правительством»!
А я не стоял ни на одной из этих ступенек, даже на самой нижней. Я не существовал. Меня не было. Я не значился. Так чего же ей, Соколовой, которая так отменно научилась управлять государством, чего же ей было меня стесняться?!
Она и разоткровенничалась. И была в этой откровенности и простая бабья месть за брошенное мною на репетиции словцо «дура», и подлинная дурость, и злорадное торжество имущего власть над никакой власти не имущим.
И все-таки, все-таки самого главного обстоятельства, по которому моя пьеса не могла быть поставлена, не должна, не имела права быть поставленной – Соколова мне в тот день не сказала.
Допустим, что она и не думала об этом обстоятельстве, вернее, не умела еще выразить его в слове, но она уже чувствовала его – тем особым, обостренным чутьем животного, знающего только звериные правила борьбы за существование.
И тут я должен вернуться к вопросу, которого я мельком коснулся в первой главе – к вопросу о чрезвычайно широкой и хитроумной системе создания всякого рода неравенств, каковая система, по искреннему убеждению Соколовых обоего пола, и есть способ «отменного» управления государством.
Отдыхает начальство, отдыхают «слуги народа», «народные избранники», плоть от плоти и кровь от крови, отдыхают на своих госдачах, отгородившись от народа заборами и охраной, под сенью табличек:
- «Посторонним вход воспрещен»!
Но, как бывают разные запретительные знаки: от скромной таблички до милицейского кирпича и вооруженной охраны, – так бывают разными и сами госдачи. О, тут существуют тончайшие оттенки: на одних полагаются картины, чешский хрусталь, столовое серебро, обслуживающий персонал – или, как его называют, «обслуга» – человек двадцать, не меньше, собственный кинозал; на других дачах перебьются и без картин, обойдутся простым стеклом и нержавеющей сталью, «обслуга» – человека два, и кино приходится смотреть в общем – разумеется, тоже закрытом для простых смертных, кинозале.
Хитроумнейшая система!
Даже сотрудники одного и того же учреждения получают пропуска разной формы и цвета. По одним, скажем, розовым и продолговатым – вы можете в обеденный перерыв посетить спецбуфет, где – икра, и вобла, и американские сигареты, и весь обед стоит гроши, а по другим, допустим, зеленым и квадратным – извольте спуститься в обыкновенную столовую, где о вобле и слыхом не слыхали, где лучший сорт сигарет – дубовые «Столичные» и обед стоит столько же, сколько в любой другой городской столовой.
…Возможно, вы не знаете историю, давно уже ставшую анекдотом.
Знакомая одних наших знакомых совершенно случайно попала в загородную правительственную больницу «Кунцево».
И вот какой разговор она услышала за завтраком. Поедая бутерброд с лососиной, жеманная жена одного «народного избранника» жаловалась другой:
- Ну, я-то понимаю – почему я сюда попала! Я заехала к одной своей школьной подруге – не из наших… Она стала угощать чаем, неудобно было отказаться – выпила чаю, покушала городской колбасы – и пожалуйста, вспышка гастрита?..
Вот ведь оно как – уже не принимают, не переваривают их желудки «городскую» колбасу?
Но добро бы дело сводилось только к сигаретам и колбасе.
Иметь розовый пропуск, – это значит жить в особом мире, где свои деньги и порядки, свои книжки и газеты, вроде «Белого ТАССа», где смотрят особые заграничные фильмы с политической и сексуальной «малинкой», где почти бесплатно отдыхают в спецсанаториях и где, наконец, на государственный счет – то-бишь на счет обладателей зеленых пропусков и прочих – ездят в заграничные командировки.
Вот и попробуйте теперь сравнить – куда там? – страстную мечту Акакия Акакиевича о новой шинели с мечтою современного Башмачкина, обладателя зеленого пропуска, о пропуске розовом?
Господи, да прикажи ему вышестоящий товарищ, от которого может что-то зависеть, спинку почесать – почешет, в дерьмо нырнуть – нырнет, прикажи дать по рылу «кому совсем не виноватому» – даст, за милую душу даст? Лишь бы держать на потной ладони этот розовый, продолговатый, выигрышный лотерейный билет, этот волшебный пропуск в иной, волшебный мир – и чтобы на этом пропуске, таким красивым, с завитушками, почерком было написано твое собственное имя!..
А уж когда Акакий Акакиевич пропуск этот получит – попробуйтека его отнять! Тут уж он не только по рылу даст – тут он на что угодно пойдет: на любую подлость и преступление, на любой донос и предательство.
И все-таки, случается – отнимают!
Все на свете преходяще: и молодость, и здоровье, и розовые пропуска!
И приходится на старости лет, как пришлось это «деятелям антипартийной группы и примкнувшему к ним Шепилову», обзаводиться не государственными, а своими, купленными на обычные деньги, «городскими» вилками, ложками и тарелками!..
Страшно!
И ноют, мучительно ноют сердца Соколовых, тяжело ворочается вермишель чиновных мозгов – а нет ли такой системы неравенства, которая была бы не преходящей, а вечной, не зависела бы от звания и чинов, от того, кто сегодня на самом верху, от времени и обстоятельств и с лихвою искупала бы собственную дурость?!
Оказалось, что такое неравенство – есть!
Простейший канцеляризм, невинный «пятый пункт», ответ на вопрос анкеты о национальности – а вот, поди ж ты, каким могучим смыслом и содержанием наполнила его чиновная догадливость!
Ведь вот же он, не дававшийся в руки средневековым алхимикам философский камень мудрости – неравенство прекрасное и вечное, неравенство неизменное навсегда.
Разумеется, известно оно было давно, и не Соколовы его придумали, но как-то так, до поры, за разговорами о нашем интернационализме как о великой силе международной братской солидарности, они об этом неравенстве не то чтобы позабыли, а вроде упустили из виду, а уж когда спохватились…
А ведь я-то в своей пьесе «Матросская тишина» пытался, по наивности и глупости, доказать, что в Советской России для представителей еврейской национальности путь ассимиляции – не только разумный, но и самый естественный, нормальный, самый закономерный путь.
Я не случайно, а вполне обдуманно и намеренно выдал замуж за Давида не Хану, а Таню, а Хану отправил на Дальний Восток, где на ней женился некий капитан Скоробогатенко – об этом в четвертом действии расскажет старуха Гуревич.
Кстати, по настоянию Ефремова, в программке, отпечатанной на пишущей машинке для зрителей генеральной репетиции, пьеса называлась не «Матросская тишина», а «Моя большая земля» – по последним словам Давида в третьем действии, словам, которые для начальственных дамочек должны были прозвучать как прямое кощунство и оскорбление.
Его земля, изволите ли видеть!
Сам того не понимая, я посягнул на святыню, покусился на основу основ вот чего не сказала мне Соколова.
Повторяю, в тот год она еще, возможно, и не могла бы мне этого сказать, это еще только носилось в воздухе, формулировки еще не были найдены, хотя необходимость их найти была очевидна.
Странно, казалось бы – уже избивались космополиты, уже был уничтожен Еврейский театр, расстреляны ведущие еврейские писатели и поэты, уже готовилось, после завершения «дела врачей», распределение всех евреев Советского Союза на четыре группы: немногочисленные первые две – «евреи нужные» и «евреи полезные», и многочисленные – «евреи, подлежащие выселению в отдаленные районы страны» и «евреи, подлежащие аресту и уничтожению».
Все это уже было, но внезапная смерть Сталина, а потом доклад Хрущева на двадцатом съезде КПСС – снова на время спутали карты. Впрочем, кого-кого, а чиновников сбить с толка не так-то просто. Скоро, очень скоро все возвратится на круги своя, а Шестидневная война подведет окончательные итоги – фокус не удался, факир был пьян, как дрова, чиновники могут торжествовать: «пятый пункт» и никаких гвоздей!
Перефразируя известные слова Орвелла из «Скотского хутора», можно сказать – все граждане Советского Союза неравны, а евреи неравнее других!
И не может быть естественной и нормальной ассимиляция в той среде, которая больше всего на свете, всеми своими помыслами, узаконениями и инструкциями – этой ассимиляции не хочет и не допустит.
Орден – пожалуйста, звание – милости просим, не возражаем (и орденам, и званиям уже давно три копейки цена, а на худой конец их можно и отобрать), но восхитительного «пятого пункта», каиновой печати во веки веков, знака качества второго сорта – этого мы вам не подарим, этого не уступим! А тот факт, что множество людей, воспитанных в двадцатые, тридцатые, сороковые годы, с малых лет, с самого рождения, привыкли считать себя русскими и действительно всеми своими корнями, всеми помыслами связаны с русской культурой – тем хуже для них!
Это, как с возрастом – сам себя считаешь еще хоть куда, князь да и только, а уже вежливый пионерчик, уступая тебе место в метро, говорит:
- Садитесь, дедушка.
Сидите, дедушки! Сидите, бабушки! Сидите и не рыпайтесь! Ассимиляции им захотелось!
Современная анкета уже интересуется, бабушки и дедушки, вашей национальностью. Ей отца и матери мало. Ей наплевать, что фамилия заполнявшего анкету Иванов.
Вот он пишет в биографии – русский,
Истый-чистый, хоть становь на показ.
А родился, между прочим, в Бобруйске
И у бабушки фамилие – Кац!
Значит, должен ты учесть эту бабку
(Иванову, натурально, молчок!),
Но положь его в отдельную папку
И поставь на ней особый значок!..
Я уже говорил и охотно повторю, что я просто пытаюсь разобраться в собственной жизни и понять – почему запрещение (пардон, не рекомендация!) пьесы «Матросская тишина» так много для меня значило и сыграло такую важную роль в моей судьбе.
Наверное, – так я думаю теперь – потому что это была последняя иллюзия (а с последними иллюзиями расставаться особенно трудно), последняя надежда, последняя попытка поверить в то, что все еще как-то образуется.
Все наладится, образуется,
Так что незачем зря тревожиться,
Все безумные образумятся,
Все итоги непременно подытожатся!..
Вот они и подытожились.
Сегодня я собираюсь в дорогу – в дальнюю дорогу, трудную, извечно и изначально – горестную дорогу изгнания. Я уезжаю из Советского Союза, но не из России! Как бы напыщенно ни звучали эти слова – и даже пускай в разные годы многие повторяли их до меня, – но моя Россия остается со мной!
У моей России вывороченные негритянские губы, синие ногти и курчавые волосы – и от этой России меня отлучить нельзя, никакая сила не может заставить меня с нею расстаться, ибо родина для меня – это не географическое понятие, родина для меня – это и старая казачья колыбельная песня, которой убаюкивала меня моя еврейская мама, это прекрасные лица русских женщин молодых и старых, это их руки, не ведающие усталости, – руки хирургов и подсобных работниц, это запахи – хвои, дыма, воды, снега, это бессмертные слова:
Редеет облаков летучая гряда!
Звезда вечерняя, печальная звезда
Твой луч осеребрил уснувшие долины,
И дремлющий залив,
И спящих гор вершины…
И нельзя отлучить меня от России, у которой угрюмое мальчишеское лицо и прекрасные – печальные и нежные – глаза говорят, что предки этого мальчика были выходцами из Шотландии, а сейчас он лежит – убитый – и накрытый шинелькой – у подножия горы Машук, и неистовая гроза раскатывается над ним, и до самых своих последних дней я буду слышать его внезапный, уже смертный уже оттуда – вздох.
Кто, где, когда может лишить меня этой России?!
В ней, в моей России, намешаны тысячи кровей, тысячи страстей – веками – терзали ее душу, она била в набаты, грешила и каялась, пускала «красного петуха» и покорно молчала – но всегда, в минуты крайней крайности, когда казалось, что все уже кончено, все погибло, все катится в тартарары, спасения нет и быть не может, искала – и находила – спасение в Вере!
Меня – русского поэта, – «пятым пунктом» – отлучить от этой России нельзя!
Генрих Белль недавно заметил, что в наши дни наблюдается странное явление: писатели в странах с тоталитарными режимами обращаются к Вере, писатели в демократических странах – к безбожию.
Если наблюдение это верно, то надо с грустью признать, что человечество, как и прежде, упорно не желает извлекать уроков из чужого опыта.
Повторяется шепот,
Повторяем следы.
Никого еще опыт
Не спасал от беды!
Что ж, дамы и господа, если вам так непременно хочется испытать все на собственной шкуре – валяйте, спешите! Восхищайтесь председателем Мао, вешайте на стенки портреты Троцкого и Гевары, подписывайте воззвания в защиту Анджелы Дэвис и всевозможных «идейных» террористов.
Слышите, дамы и господа, как звонко и весело постукивают плотничьи топорики, как деловито щелкают пули, вгоняемые в обойму, – это для
вас, уважаемые, сколачиваются плахи, это вам, почтеннейшие, предназначена первая пуля! Охота испытать? Поторапливайтесь – цель близка!
Волчица-мать может торжествовать – современные Маугли научились бойко вопить – мы одной крови, ты и я!
Только, дамы и господа, это ведь закон джунглей, это звериный закон. Людям лучше бы говорить – мы одной веры, ты и я!
Читайте нас в Телеграм
 Найди свою половинку на Клик4!
Найди свою половинку на Клик4!
Click4.co.il — Самый популярный и посещаемый сайт знакомств в Израиле - более 200 000 анкет. Здесь ты обязательно найдешь свою половинку!
 Orbita.co.il — Популярная домашняя страница
Orbita.co.il — Популярная домашняя страница
Ежедневно десятки тысяч русскоязычных израильтян начинают день с Orbita.co.il
 Profi.orbita.co.il — справочник лучших специалистов Израиля
Profi.orbita.co.il — справочник лучших специалистов Израиля
Очень просто найти нужного тебе специалиста в твоем городе!
 Doska.orbita.co.il — доска бесплатных объявлений Израиля
Doska.orbita.co.il — доска бесплатных объявлений Израиля
1000 новых объявлений каждый день. Десятки тысяч посетителей.
Есть ненужные Вам вещи? Они кому-то нужны. Продайте их с выгодой!
Новости партнеров
Последние статьи в разделе «»













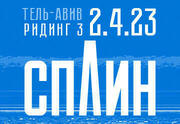















Комментарии: