19 октября исполняется 100 лет со дня рождения Александра Галича. Поэт, драматург, прозаик, сценарист и бард летом 1974 года был вынужден эмигрировать из СССР, а его произведения были запрещены. Незадолго до этого он был исключен из Союза писателей и Союза кинематографистов. В 2012 году в издательстве «Новое литературное обозрение» вышел объемный труд Михаила Аронова «Александр Галич. Полная биография».
С разрешения издательства публикуется фрагмент текста, посвященный «домашним» концертам Галича и отъезду за границу.
19 октября 1973 года Галич отмечает свой последний в Советском Союзе день рождения. Домой к нему пришло много гостей. Среди них — Андрей Сахаров, Елена Боннэр, Феликс Светов, Зоя Крахмальникова… Галич спокоен и счастлив, ведь рядом с ним снова его самые близкие, самые надежные друзья. Глядя на Галича и зная истинное положение дел, можно заподозрить, что он только старается казаться веселым, а в действительности ему совсем не легко. Такие мысли и пришли в голову Зое Крахмальниковой: «Я гляжу мельком на Сашу: да он и в самом деле спокоен. Он ведь артист, умеет держаться, он запретил себе думать о том, что это — начало разлуки. А значит, прощание. Еще одного “лицейского дня” у него в России не будет.
А ведь совсем недавно, когда мы с Феликсом Световым пришли к нему (видались мы с ним в ту предотъездную пору часто), он был печален и сразу с порога объявил нам: “Все решено: я никуда не еду”. Мы входим в комнату, и он объясняет, что недавно заходил Владимир Максимов (для которого отъезд уже был решенным делом) и уговаривал (в который раз!) Галича последовать его примеру».
Однако Галич отказался от предложения Максимова: «Тошно без вас мне будет, Владик, ох тошно, не для меня все это, ох не для меня, а самому решиться — тоже мочи нет...». Владимиру Ямпольскому он также признавался в нежелании покидать страну: «Я хочу жить и умереть дома».
Итак, с одной стороны: «Я никуда не еду», а с другой: «Если я не уеду, я просто умру». В метаниях между двумя этими крайностями пройдет весь 1973 год.
Осенью вместе с Крахмальниковой, Световым и Каретниковым Галич получил приглашение от Александра Меня приехать к нему в гости на станцию Семхоз. Прибыли вечером, когда уже настали сумерки. В кабинете священника было полутемно, но свет не зажигали. Сам отец Александр сидел за письменным столом; Светов, Крахмальникова и Каретников разместились на диване, а Галич сел в кресло и спел «Когда я вернусь». Эту песню он тогда пел постоянно, так как она точно отражала его душевное состояние.
Александр Мень понимал это лучше других: «Он приехал ко мне домой с гитарой. Пел для собравшихся друзей. Голые ветки за окном и пустое пространство напоминали о бесприютности. Мы смеялись и плакали. Никто не мог обвинять в противоречии человека, написавшего “Песнь исхода”. Было видно, что его довели до точки. Больше он не мог выдержать. Есть моменты, когда суждено дрогнуть и сильному».
7 сентября в западной прессе появилось открытое письмо Галича, Максимова и Шафаревича, где они предлагали выдвинуть Сахарова на Нобелевскую премию мира: «В наше время, когда зло и насилие готовы праздновать свою победу над духом и над рассудком, мы обращаемся ко всем, кто имеет возможность это сделать, присудить Нобелевскую премию мира славному борцу за настоящую демократию, за права и достоинство человека, за подлинный, а не мнимый мир — академику Андрею Дмитриевичу Сахарову. В нем множество преследуемых и угнетаемых черпают силу и надежды. Не будучи верующим догматиком, Сахаров являет собой пример настоящего христианского самопожертвования на этой земле... Каждый новый день, могущий стать последним днем его жизни, требует от Сахарова титанического усилия, чтобы преодолеть инерцию окружающей его среды. Мы уверены, что, присудив Нобелевскую премию Андрею Дмитриевичу, Комитет исполнит лишь свой долг по отношению к цивилизации и явит всем людям доброй воли образец и пример высокой моральной бдительности, что, безусловно, будет способствовать установлению мира во всем мире».
Вскоре после этого, 17 сентября, немецкий журнал «Шпигель» опубликовал три телефонных интервью, взятые у Сахарова, Максимова и Галича. Среди множества вопросов, в том числе о мотивах выдвижения Сахарова на Нобелевскую премию мира, Галича спросили также о реакции общественности в Советском Союзе. Он ответил так: «В СССР, к сожалению, по-прежнему царит привычный страх и равнодушие. Только этим можно объяснить тот факт, что под нападками на Сахарова стоят подписи Шостаковича и Хачатуряна. Этот страх неосязаем. Это, в общем-то, страх перед любыми трудностями. Ведь ясно, что людей больше не хватают на улицах, никто не врывается в их дома. И, однако, существует привычка — если власти рекомендуют что-то подписать, то надо подписывать».
В конце 1973 года распространитель ленинградского магнит- и самиздата Михаил Черниховский составил сборник песен Галича, иллюстрированный фотографиями с картин художника Гавриила Гликмана. Владимир Ковнер повез этот сборник Галичу: «Александр Аркадьевич лежит, сердце побаливает… Говорит очень тихо (уверен, что квартира прослушивается, прячет телефон под подушкой), проглатывая концы фраз: “Собираемся выйти на Красную площадь в защиту отказников. Сахаров с нами, может быть, Володя Фрумкин… Присоединяйтесь…”
Галич на своем опыте узнал, что такое «жизнь в отказе», и поэтому воспринимал проблемы отказников как свои собственные и не мог остаться от них в стороне. Однако в частных разговорах он уделял политике мало внимания. Как вспоминает Ксения Маринина, «он не был политизирован, нет. Его как-то это мало интересовало. Его больше интересовало искусство. Написанное что-то. Он не любил политизировать. Я, во всяком случае, этого не помню».
Помимо правозащитной деятельности, Галич дает множество частных концертов — так называемых «квартирников», которые после его исключения из союзов все чаще становятся платными. Эти концерты можно разделить на две категории. Первая — недорогие концерты, которые были по карману любому человеку. О них вспоминала Елена Боннэр: «Диссиденты устpаивали “платные”, по тpешке, концеpты Галича в своих тесных кваpтиpах, но этого не хватало», и очень эмоционально высказывался Евгений Клячкин: «…скитаться из компании в компанию, где твои друзья и друзья друзей, и друзья друзей друзей собираются и скидываются по два рубля, по трёхе во время обеда, зная, что эти два рубля и трёха останутся тому, кто сидит сейчас вместе с ними за столом, пьет водку, обедает и потом будет петь им песни — худшего унижения придумать для художника нельзя! Это мордой протащить по грязи, вот, понимаете. Это унижение, причем от тех людей, которые к тебе благоволят, которые тебя любят! Ну, как же это так? А это унизительно, конечно».
Вторая категория — дорогие концерты, посетить которые могли лишь более-менее обеспеченные люди. Поэтесса Мария Романушко рассказывала о подобных концертах Галича дома у врача-хирурга Мины Казарновской (дочери известного химика Исаака Казарновского), которая прошла всю войну, а в застойные времена устраивала встречи со многими опальными писателями: «Не раз пел у нее на квартире Александр Галич.
Концерты были благотворительными: народ собирался не просто для того, чтобы послушать песни, но еще и для того, чтобы “скинуться” в помощь поэту, которому уже нигде не давали работы, и жить ему было все труднее и труднее... К сожалению, сумма взноса была для меня неподъемной. Но попроситься прийти забесплатно я, по причине своей гордости, не могла. Поэтому приходилось довольствоваться рассказами Мины Исааковны об очередном “потрясающем” концерте...»
Однако эти платные концерты часто имели своей целью помочь не только самому Галичу, но и семьям политзаключенных. Вспоминает математик и правозащитник Владимир Альбрехт, автор известной брошюры «Как вести себя на допросе»: «Я был первым, кто стал организовывать его платные домашние концерты. Были в этом некоторые сложности. Смешные, но принципиальные. Во-первых, на этих концертах никто деньгами не хрустел. Хотя суммы собирались немалые. Как это делалось? Например, договаривался я с Майей Михайловной, спрашивал, сколько народу она приведет такого-то числа. Она говорила, допустим, десять человек, что означало 100 рублей — с каждого по червонцу. Тогда это были большие деньги. И я ей выдавал адрес семьи политзаключенного, по которому эти деньги должны были быть переведены в течение какого-то времени, а потом она должна была отдать мне квитанции. Обратный адрес мог быть любым, но конкретного лица, или мой. То есть я деньги не собирал. Это было бы неудобно перед Галичем. Он ведь нуждался, но за концерты ничего не получал. И чтобы избежать двусмысленности, все делалось за безналичный расчет. Был и некий Владлен Моисеевич, который, скажем, приводил 20 человек, значит, мои подопечные получали от него еще 200 рублей.
В организации этих концертов было важно и то, что я никогда никому не говорил, где он состоится. Я договаривался с разными группами о встречах в разных местах и каждую группу отводил по месту проведения концерта. Я понимаю, что, может быть, это смешно, но мне казалось это существенным. Я ходил и к Люсе, и к Андрею Дмитриевичу [Сахарову], если очень надо и нельзя сделать это через моего друга Андрея Твердохлебова. Но я старался этих людей попусту не беспокоить. Я держался третьего слоя. В нем были люди, с которых я собирал довольно большие деньги — заведующие лабораториями, кандидаты наук — люди обеспеченные. Мероприятия, которые я проводил, могли очень сильно подорвать их экономическую мощь. Они приходили на концерты Галича с продуктами, пайками...»
Слушатели на эти концерты приглашались, как правило, при личной встрече, а не по телефону, поскольку КГБ легко мог сорвать мероприятие и арестовать собравшихся.
В начале 1970-х Галич дает два концерта в пользу политзаключенных на квартире у будущих отказников Инны и Игоря Успенских. В 1971 году они купили большую квартиру в Москве, и там было удобно устраивать такого рода встречи. Невзирая на пристальную слежку со стороны ГБ, в их квартире собиралось до ста человек и даже больше. Каждый вносил энную сумму, и вырученные деньги пересылались семьям политзаключенных. «Мы чувствовали на себе гэбэшный глаз, — говорит Инна Успенская, — но нас они тогда не трогали, мы как бы были в стороне».
Что же касается самой обстановки домашних концертов, то на эту тему также сохранилось довольно много воспоминаний. В целом они проходило одинаково — что до исключения Галича из союзов, что после. Анатолию Макарову, автору биографии Вертинского в серии «Человек-легенда», однажды довелось побывать на таком концерте в конце 60-х годов: «Типичная опять же, кооперативная квартира тех лет в доме, заселенном художественной интеллигенцией, стол, накрытый не то чтобы по-праздничному, но и не просто на скорую руку — коньяк, вино для дам, какое-нибудь домашнее печенье... Гостей человек восемь—десять, хотя иной раз и больше. Организующим центром компании выступает не трапеза, а магнитофон, незабвенная громоздкая “Яуза” или не менее тяжеловесный “Днепр”».
Другие особенности этих «квартирников» встречаются в мемуарах Марии Дубновой: «Два раза мне приходилось бывать на домашних концертах Галича. Входишь, тебе открывают. Люди сидят на стульях, на доске, положенной на табуретки. Человек сорок в комнате набито. Кто-то стоял у стен, кто-то на полу сидел. У дальней стенки сидит вальяжный человек, достаточно высокий. Во всяком случае, он производил впечатление высокого. Гладкое, толстоватое лицо. С такими глазами, бровями. Не важный, не солидный — а именно вальяжный... И гитара такому господину не должна подходить, но она у него выглядела как что-то очень изысканное. И когда он пел живьем — было сногсшибательно».
Александр Мирзаян дополняет эту картину: «Я был на домашних концертах у него, наверное, четыре или пять раз. Битком набитые квартиры. Сидели друг на друге. Причем в одной квартире, я помню, сидели даже на шкафу. Там были такие детские кровати. Знаете, вот так — одна над другой. И два человека сидели там, наверху, на детских кроватях. И он всегда просил журнальный столик — он раскладывал там тексты. Стояла бутылочка коньяка и рюмочка. И вот он иногда к этому делу прикладывался для горла, для общего самочувствия. И он пел часа по два».
Однако самый подробный рассказ принадлежит правозащитнице Людмиле Алексеевой. К началу 1970-х она уже была большой поклонницей творчества Галича, но не знала его лично, хотя у них было много общих знакомых (например, тот же Копелев, с которым Галич жил в одном доме). А когда Алексеева узнала, что Галича исключили изо всех союзов, то решила с ним познакомиться и предложить свою помощь. Придя к нему домой, она спросила: «Наверное, сейчас ваши концерты будут не только ради удовольствия вашего собственного и ваших друзей, а может быть, ими зарабатывать деньги, иначе на что вы будете жить?» Галич грустно вздохнул, а Алексеева продолжила: «Насколько я знаю, вы за концерты деньги не брали и как организовать свои платные концерты, вы себе не очень представляете?» — «Да, не очень представляю», — говорит Галич. «Знаете, я буду вашим импресарио», — предложила Алексеева. И хотя раньше у нее такого опыта не было, но, будучи женщиной энергичной, она была уверена, что справится с этой задачей, и начала с концерта Галича в своем собственном доме — это был 17-этажный блочный дом № 6 на улице Удальцова. Когда Алексеева обменивала квартиру, то решила поменяться именно туда — хотя в этом доме были обычные ордера, но они раздавались сотрудникам КГБ! По этому поводу адвокат Софья Каллистратова как-то спросила ее: «Вы что, не знаете, что это кагэбэшный дом?» — на что Алексеева ответила: «Ну, знаете, Софья Васильевна, Вера Засулич всегда снимала комнаты у жандармских полковников, потому что в их дома не приходят с обыском. Поэтому я не боюсь жить в доме КГБ». Но тем не менее к ней дважды приходили с обыском.
Людмила Алексеева жила со своим мужем в двухкомнатной квартире: одна комната была совсем маленькая — восемь с половиной метров, а другая — восемнадцать. В ней по периметру стояли тумбы, на которых находились книжные полки. Готовясь к концерту Галича, тумбы решили оставить, книжные полки отнесли в маленькую комнату, а расстояние между тумбами заставили табуретками. Когда не хватало табуреток, то на связки книг, крепко привязанные, чтобы не распались, положили доски, и в результате получились скамейки. Всего во время концерта в комнате смогло уместиться пятьдесят человек. Часть из них села по тумбам, часть — на скамейках, прижавшись плечом к плечу, а впереди Алексеева положила матрас, на котором расположилась молодежь. Около окна поставили кресло, в которое сел Галич, и рядом установили тумбочку с бутылкой дорогого коньяка, потому что знали, что когда он поет, то любит отхлебывать коньяк. Сама Алексеева в коньяках ничего не понимала, но проконсультировалась и узнала, какой коньяк любит Александр Аркадьевич: «Было тепло — я уж не помню, май или июнь, — но мы открыли окно, чтобы можно было дышать, и он сидел у окна. Собирала я на концерт своих друзей, но кому я ни говорила, что придет Галич, все сразу: “Ой, Галич!” Я говорила: “Так, ребята, сейчас он без работы, я никого не напрягаю — среди вас богатых людей нет, поэтому кто сколько может”. После концерта я, как положено, взяла мужнину шапку и, когда Галич уже ушел, обошла всех по кругу. Но мне еще вдобавок повезло, потому что буквально за пару дней до этого приехал из Таллина давний друг мужа (когда он после лагеря не мог жить в Москве, он жил в Эстонии) Эля Бельчиков. И я говорю: “Эля, будет концерт Галича”. Он: “Боже мой!” Я говорю: “Эля, сколько можете”. Я должна сказать, что Эля положил, по-моему, в три раза больше, чем все остальные, и получилось очень хорошо. Галич пришел со своей гитарой. Когда я открыла окно, мой муж сказал: “Ты вообще помнишь о наших соседях?” Я говорю: “Ну, невозможно — пятьдесят человек в комнате, Галич же не сможет петь, он задохнется, у него больное сердце”. Мы открыли окно, и он пел. Галич сам спокойно отнесся к открытому окну, а я решила — будь что будет. Кстати, я попросила его: «Первая песня, которую мы с мужем услыхали, — “Облака”. Начните с “Облаков”» И он с нее начал. Дальше он пел всю трилогию про Клима Петровича Коломийцева, про Пастернака… Несколько песен он спел сам, а потом люди выкрикивали — к кому-то он не прислушивался, а так на заказ пел. В общем, концерт очень удался. Я собрала деньги и, честно говоря, даже не думала, явятся ли ко мне после этого в связи с открытым окном. Но через пару дней, убирая квартиру и открыв окно, я услыхала, что из другого открытого окна нашего дома повторяется концерт Галича в моей квартире. Потом возле нашего дома идешь — песни льются из одного окна, из второго, из третьего. Может, один кагэбэшник записал, другим раздал, я не знаю, как они там действовали, но наш дом был весь обеспечен Галичем, и ко мне никто не пришел. Понимаете, вот сила искусства!»
Но далеко не всегда концерты проходили так безоблачно. По словам Владимира Альбрехта, «бывали такие случаи, что соседи вызывали милицию. Милиция приходит, потом проверяет документы, переписывает всех собравшихся». О том же свидетельствует Александр Мирзаян: «Это были концерты-домашники, куда, хотя и знали, что “стучали”, люди приходили специально, чтобы послушать. Они даже не прятались. Когда мы приходили в квартиру, хозяин говорил: “Пришли. Мы не одни”. А когда приходил Галич, поскольку я пришел с Александром Аркадьевичем (естественно, я был свой), поэтому при мне ему говорили: “Мы не одни”».
Особой опасности подвергались, конечно, сами организаторы таких концертов. Владимир Альбрехт говорит, что для него самое главное было то, чтобы кандидаты наук, уходя с концертов Галича, не перепутали свои совершенно одинаковые портфели, шапки и пальто и не начали потом разыскивать их в соседних домах у ничего не понимающих людей, ставя таким образом организаторов под удар.
А Николай Каретников, который возил Галича на концерты на своей машине, рассказывал Юлиану Паничу во время их встречи в Москве 24 сентября 1994 года, что предотъездный период Галича — «это были страшные недели и месяцы. Я ездил с ним на его концерты, но это — не просто заработки, это была миссия, он пением служил Истине. Знаешь, это было небезопасно. Кого-то из слушателей Галича после очередного домашнего концерта избили неизвестные. К Галичу подсылали провокаторов. Я чувствовал, и чувствовал он, что к окнам квартир, где он выступал, буквально прирастало чье-то волосатое ухо...»
(…)
7 ноября 1973 года Мариэтта Чудакова записывает в своем дневнике: «Е[вгений] Б[орисович] и Алена Пастернаки, в день именин Алены, собрали людей — человек тридцать — слушать Галича. Все сидели как бы на чемоданах, готовые сняться в любой момент. Думаю, там не было ни одного остающегося В перерыве Галич жаловался, что та речь, на которой он строил ранние свои песни, исчезла будто бы из курилок и пивных — и там теперь тоже говорят на стертом газетном языке, который трудно ввести в песню (N потом — как и NN — сильно сомневался в этом: “Это он просто исчерпал ресурсы этой речи”).
Галич ожидает разрешения к январю — хотя и не уверен. “Хочу ехать в Норвегию. Я там был в командировке — и писал. Меня туда зовут, и мне нравится эта страна, народ... Хочу скорее оказаться в номере гостиницы, смотреть на чужую реку, которая ни о чем не напоминает”».
Судя по всему, М. Чудакова имела в виду не разрешение ОВИРа, а второе приглашение из Норвегии, которое Галичу в декабре привез Виктор Спарре. Тем более что до декабря Галич больше не обращался в ОВИР для выезда в Норвегию, однако он попытался получить разрешение на поездку во Францию.
22 ноября агентство Франс Пресс распространило сообщение «Поездка русских писателей запрещена»: «Два русских писателя объявили сегодня, что советские власти не разрешили им принять приглашение по посещению Парижа для празднования годовщины Французского ПЕН-клуба в начале следующего месяца.
Два человека, Владимир Максимов и Александр Галич, написали иностранным корреспондентам, что для русского писателя, “лишенного всех прав”, такая поездка представляет собой неразрешимую проблему.
Они остро раскритиковали западных политиков и бизнесменов, которые, сотрудничая с Советским Союзом, “надеются купить спокойствие за счет лишения нас наших прав”».
Это сообщение, конечно же, не повлияло на действия западных политиков и бизнесменов. И Галичу с Максимовым, как и многим другим людям, пришлось еще долгое время добиваться осуществления законного права любого человека на выезд из своей страны.
Однако власти не только не выпускали Галича, но еще и распространяли о нем заведомо ложные слухи. На одной из фонограмм 1973 года Галич, прочитав «Песню исхода», сделал любопытную ремарку о том, как ведется работа по разъяснению «вредительской сущности» его песен: «Недавно на инструктаже, который проводился для московских лекторов в одном учебном заведении, лектор процитировал это последнее четверостишие и сказал, что “вот видите, он всех призывает уехать, а сам он останется, чтобы вредить!”». Это говорилось о следующих строках: «Уезжайте! А я останусь. / Я на этой земле останусь: / Кто-то ж должен, презрев усталость, / Наших мертвых стеречь покой!»
Когда Галич писал эту песню, то был полон решимости бороться до конца и отвергал для себя даже теоретическую возможность эмиграции, однако через два года ситуация изменится кардинально, а вместе с ней и настрой самого Галича. На одном из домашних концертов в декабре 1973 года он предварит чтение «Песни исхода» такими словами: «Оно еще сравнительно оптимистичное, поскольку его автор был настроен несколько оптимистичнее, чем он настроен теперь». Помимо того, Галич опасался, что в результате отсутствия контактов с широкой аудиторией все, что он написал, может погибнуть. В этом он признался в разговоре с Еленой Невзглядовой, и эти опасения нашли отражение в его творчестве сразу же после исключения из Союза писателей — 15 января 1972 года, когда Галич написал совершенно безнадежное по своей тональности стихотворение «Когда-нибудь дошлый историк»: «…А в сноске — вот именно в сноске — / Помянет историк меня! Но будут мои подголоски / Звенеть и до Судного дня... / И даже не важно, что в сноске / Историк не вспомнит меня!» К счастью, это пророчество не оправдалось.
Вскоре после того, как в августе 1973 года Галич подал в ОВИР свое первое заявление о выезде в Норвегию и ему было отказано, он получил гостевой вызов от своего дальнего нью-йоркского родственника Джорджа Гинзбурга и 26 октября вновь обратился в ОВИР. Как сообщает авиаграмма, отправленная 27 декабря в Вашингтон советником американского посольства в Москве Карлом Соммерлэйтом (Karl Sommerlatte), 26 декабря Галич посетил американское посольство, чтобы обсудить с его сотрудниками свое заявление о намерении посетить США: «Он сказал, что это заявление было сделано на основе краткого пригласительного письма (“вызова”) от дальнего родственника Джорджа Гинзбурга, 317 West 100th Street, Apt 2R, New York City 10025. По словам Галича, принимая его заявление, чиновники из ОВИРа не сделали никаких комментариев, кроме того, что решение по данному вопросу потребует “два или три месяца”. Галич добавил, что не хочет пока предавать гласности свое заявление, чтобы у ОВИРа было достаточно времени для принятия решения. Галич выразил сотрудникам консульства обеспокоенность тем, что если ему дадут разрешение на выезд, то советские власти могут не разрешить ему вернуться в СССР. Он подчеркнул, что обращается за выездом из СССР “как писатель, который не может писать здесь, а не из-за своей национальности”».
Приславший приглашение Джордж Гинзбург был профессором права, однако все его знания оказались бесполезны, поскольку 14 января 1974 года Галича вызвали в ОВИР и сообщили, что с советским паспортом он никуда не уедет. Подробный рассказ об этой встрече прозвучал в передаче Галича на радио «Свобода» 23 августа 1975 года. В повестке ему было предписано явиться в такой-то кабинет к двенадцати часам дня. Его провели к кабинету замначальника ОВИРа полковнику Золотухину, имевшему функцию объявлять об отказах. Возле кабинета находилось огромное количество народу. Вскоре по радио объявили: «Гражданин Галич, пожалуйста!», и, сопровождаемый лютыми взглядами со стороны всех ожидавших своей очереди, он зашел к Золотухину. Тот, как и следовало ожидать, объявил об отказе на выезд. Галич его поблагодарил и задал традиционный в таких случаях вопрос: «Кому я могу на вас пожаловаться?» Страж закона широко улыбнулся: «На нас жаловаться бесполезно, но можете писать в Президиум Верховного Совета».
Галич поинтересовался причиной отказа. В ответ Золотухин указал ему на «человека со стертым лицом», сидевшего рядом за столом: «Вот товарищ специально приехал с тем, чтобы поговорить с вами и объяснить вам». Этот «товарищ» (сотрудник КГБ) провел Галича в другой кабинет, и между ними состоялся следующий диалог: «Вот вы хотите выехать за границу с советским паспортом. Ну как же мы можем позволить выехать за границу с советским паспортом, когда вы у нас в стране занимаетесь враждебной пропагандой, а вы хотите, чтобы мы вас отправили за границу как представителя Советского Союза». — «Теперь мне все понятно. Благодарю вас». — «Но у вас есть еще другой выход». — «Какой?» — «Вы можете подать заявление на выезд в Израиль, и я думаю, что мы вам дадим разрешение». — «Собственно говоря, вы мне предлагаете выход из гражданства?» — «Я вам ничего не предлагаю, я просто говорю о том, что есть такая возможность».
(…)
Через два дня после того, как ОВИР отказал Галичу в выезде в США, Александр Воронель и Андрей Твердохлебов направили заявление на имя председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного: «14/1—74 г. сотрудник московского ОВИРа отказал в разрешении на выезд из Советского Союза писателю А.А. Галичу. В беседе, которая состоялась у А.А. Галича с должностным лицом в ОВИРе, выяснилось, что этот отказ вызван опасениями идеологического характера. Этот факт представляется нам весьма зловещим. За последние 2—3 года идеологические мотивы не приводились (во всяком случае, официально) как обоснование для отказа в выезде. Мы надеемся, что Вы данной Вам властью исправите эту несомненную ошибку ОВИРа, которая ставит в весьма щекотливое положение Президиум Верховного Совета СССР, ратифицировавший менее чем полгода назад “Пакт о гражданских и политических правах человека” ООН». В тот же день было написано аналогичное письмо за подписями Андрея Сахарова, Елены Боннэр и Владимира Максимова, адресованное в Международный ПЕН-клуб и в Европейское сообщество писателей.
А 17 января в 8 часов утра на киевскую квартиру писателя Виктора Некрасова пришли сотрудники КГБ и провели обыск, «в результате которого изъято значительное количество антисоветской и идейно вредной литературы». Обыск продолжался почти двое суток — 40 часов и закончился 18 января в 24.00.
Узнав об этом, 19 января Андрей Сахаров сделал заявление, где обрисовал безрадостное положение, в котором оказались многие деятели культуры Советского Союза: «Кампания беззастенчивой лжи против Солженицына подозрительно совпала с целым рядом акций идеологического характера. Исключена из Союза писателей одна из замечательных представительниц современной русской литературы Лидия Чуковская, закрыт выезд из страны для Александра Галича, готовится расправа над такими видными представителями нашей интеллигенции, как писатели Владимир Войнович, Лев Копелев и скульптор Вадим Сидур».
Через десять дней, 29 января, в Международный ПЕН-клуб и Европейское сообщество писателей направил открытое письмо и Владимир Максимов. Он обратил внимание на то, что в пылу полемики вокруг «Архипелага ГУЛАГ» остались незамеченными преследования других, не менее крупных писателей — Лидии Чуковской, Виктора Некрасова и Александра Галича: «На различного рода идеологических собраниях их имена склоняются самым беззастенчивым образом в сопровождении оскорбительнейших ярлыков и эпитетов. “Клеветники”, “литературные власовцы”, “предатели и отщепенцы” лишь наиболее мягкие выражения по их адресу. К тому же всех троих давным-давно лишили средств к профессиональному существованию. Не говоря уже о том, что у Виктора Некрасова произведен второй за последние два года обыск, Александру Галичу закрыт выезд из страны по идеологическим мотивам, а Лидию Чуковскую выбросили из того самого Союза, одним из основателей которого был ее отец — Корней Чуковский».
(…)
Правозащитная деятельность Галича и особенно его нежелание идти на поклон вызывали неимоверное раздражение властей, и они принимают решение навсегда избавиться от поэта. «Он не собирался эмигрировать, — говорит сотрудница мюнхенского бюро радио «Свобода» Алена Кожевникова, — но какой-то его приятель (он не называл его по имени), который имел какое-то отношение к органам, ему позвонил и сказал: “Саша, приходи ко мне, у меня есть разговор”. Галич приехал, и он сказал: “Уже выписан ордер на твой арест. Завтра же иди и подавай на выездную визу”».
И Галич сдается. 8 мая он идет в ОВИР и подает заявление на выезд в Израиль. Однако власти опять молчат. Тут уже Галич не выдерживает и обращается за помощью… в Британский парламент. Вашингтонское издание «Три Сити гералд» за 10 мая приводит такую информацию: «Русский поэт Александр Галич и его жена обратились за разрешением эмигрировать в Израиль, сообщает член Британского парламента. Лейборист Гревиль Джаннер сказал, что Галич был исключен из Союза советских писателей в 1971 году за участие в кампании еврейской эмиграции».
Может возникнуть вопрос: а при чем здесь английский лейборист? Дело все в том, что лорд Джаннер был вице-президентом Всемирного еврейского конгресса и главой всепарламентского комитета за освобождение советских евреев. Соответственно, он был заинтересован в скорейшей эмиграции Галича.
С другой стороны, 14 мая канадская газета «Виннипег фри пресс» сообщила, что Галич и его жена обратились за помощью к майору Гарольду Торнхиллу, администратору старейшей организации Армия спасения, состоявшей из христиан-баптистов, которые как раз занимались помощью нуждающимся и гонимым.
В общем, Галич задействовал все возможные способы, для того чтобы оказать давление на советских властей. А его душевное состояние перед тем, как он подал заявление на израильскую визу, лучше всего передает Виктор Спарре: «В этот период (после отъезда Максимова. — М.А.) я каждую неделю звонил в Москву, связываясь с Галичем. Я спрашивал его, как он себя чувствует. В лучшем случае ответ был: “Так себе”; а иногда: “Я конченый”. Тогда он действительно находился в отчаянном положении: плохое здоровье, никаких перспектив c работой, и к тому же продавал мебель, чтобы купить еду. Однако я был уверен, что решение уйти в изгнание должен принимать он; и в дальнейшем мой способ убеждения сводился к тому, что я ему говорил: “Надеюсь, ты будешь петь на открытии моей выставки в Бергене”. С другого конца провода раздавалось: “Это была бы чудесная сказка. И она станет реальностью. Я подам на визу на этой неделе”. Но так и не делал этого».
(…)
Подав документы на выезд, Галич начал собирать средства для того, чтобы «выкупить» себя и свою семью: власти поставили перед ним условие, что он должен возместить стоимость своей квартиры в кооперативном писательском доме.
Вскоре об этом узнали многочисленные ленинградские поклонники Галича и решили ему помочь. Быстро собрали необходимую сумму, но возник вопрос: как отдать ее Галичу, а точнее — как заставить его эту сумму принять? Было решено организовать последний концерт Галича в Ленинграде, где бы он спел все свои песни в хронологическом порядке, с подробными комментариями, и записать это на хорошей аппаратуре, а требуемую сумму заплатить в качестве гонорара. Так и сделали. Галич дал свое согласие, приехал в Ленинград и остановился в гостинице.
На следующее утро к нему в номер пришел главный магнитофонщик города Михаил Крыжановский, и началась запись. Через некоторое время в комнату стали приходить друзья Галича, поклонники его творчества и собиратели бардовской песни. На этом концерте присутствовал также коллекционер Рувим Рублев: «Когда мы с приятелем, хорошо знавшим Галича, вошли в номер, там уже было много народу. Певец сидел с гитарой в руках перед небольшим гостиничным столиком, на котором стояли два микрофона и лежала тетрадь с его стихами, куда он изредка заглядывал. Вокруг столика красовалась огромная батарея бутылок всех мастей вперемежку с букетами цветов: картина весьма впечатляющая».
Через четыре часа сделали небольшой перерыв, чтобы проветрить номер, и вышли на перекур. Потом Галич пел еще в течение двух часов и настолько устал, что, когда спел последнюю песню, уже просто не мог держать гитару.
После окончания концерта стали прощаться. «3атем был прощальный тост, прощальные рукопожатия, поцелуи и слезы, — продолжает Рублев. — Выходили мы тесной гурьбой, окружая Мишу с его магнитофоном. Шесть лент с записями спрятали на груди самые сильные: никто не знал, чем мог закончиться этот вечер. У подъезда гостиницы или за углом ее вполне могла стоять “оперативка”... К счастью, в этот раз все обошлось спокойно»
(…)
17 июня Галич наконец, получает уже официальное разрешение эмигрировать в Израиль — не исключено, что свою роль здесь сыграло заступничество лорда Джаннера, к которому он в мае обращался за помощью. Власти объявили Галичу, что вместе с женой он должен покинуть страну до 25 июня, за два дня до официального визита в СССР президента США Никсона, который, как стало известно КГБ, собирался встретиться с Галичем (26 июня, за день до приезда Никсона, были поспешно освобождены из психиатрической больницы двое политзаключенных — Петр Григоренко и Юрий Шиханович).
Получив разрешение на выезд, Галич тут же сообщил об этом иностранным корреспондентам, и уже на следующий день, 18 июня, появилась информация в прессе. Приведем заметку, опубликованную в лондонской «Таймс»: «Москва, 17 июня. — Александр Галич, советский еврейский бард и драматург, широко известный своими подпольными сатирическими песнями, сегодня получил разрешение эмигрировать в Израиль.
Галич, которому 55 лет, сообщил западным корреспондентам, что он и его жена обязаны уехать до 25 июня. Он обратился за разрешением эмигрировать 8 мая».
Когда Галич пришел в ОВИР и сел рядом с кабинетом, в котором обычно принимали желающих уехать за границу, ему велели пройти в другой кабинет. Очередь, как всегда, возмутилась: «А что это он вперед всех, что это вы его вызываете?» На что сотрудник ответил: «Ну, как его вызывают, вряд ли вы захотите, чтобы вас так вызвали…»
По словам Валерия Лебедева, Галичу сказали: «Что, Александр Аркадьевич? Севера и Дальнего Востока вам не выдержать. Про сердце свое помните? Давайте на юг и Ближний Восток». А Елена Вентцель утверждает, что фраза была такая: «Если вы не хотите уехать в другом направлении и в другом качестве, то уезжайте на свою историческую родину».
Много лет спустя, в 1989 году, Алена Галич впервые попала в архивы КГБ и увидела дело своего отца: «А что это у вас тут разные расписки?» — спросила она одного из сотрудников КГБ. «Вы знаете, мы всем предлагали сотрудничество». — «Ну и как?» Тот замялся и говорит: «Ну, вообще-то все подписывали». — «Что, и мой отец подписал?» — «Нет, вашему отцу мы не предлагали». — «А кому еще не предлагали?» — «Лимонову не предлагали. Ну, он дурак, поэтому чего ж ему предлагать...»
Сам Лимонов вспоминал об этом несколько иначе: «Я недавно видел интервью дочери Галича. Она рассказывает о своих встречах с одним бывшим кагэбэшником, и тот сказал, что в те годы раскалывались все.
“Есть только двое, которые не раскололись: ваш отец и еще один сумасшедший”. Она спросила: как же его имя? Он ответил: “Лимонов”».
lenta.ru
Читайте нас в Телеграм
Orbita.co.il, 19.10.2018 18:50, Новости в мире
 Найди свою половинку на Клик4!
Найди свою половинку на Клик4!
Click4.co.il — Самый популярный и посещаемый сайт знакомств в Израиле - более 200 000 анкет. Здесь ты обязательно найдешь свою половинку!
 Orbita.co.il — Популярная домашняя страница
Orbita.co.il — Популярная домашняя страница
Ежедневно десятки тысяч русскоязычных израильтян начинают день с Orbita.co.il
 Profi.orbita.co.il — справочник лучших специалистов Израиля
Profi.orbita.co.il — справочник лучших специалистов Израиля
Очень просто найти нужного тебе специалиста в твоем городе!
 Doska.orbita.co.il — доска бесплатных объявлений Израиля
Doska.orbita.co.il — доска бесплатных объявлений Израиля
1000 новых объявлений каждый день. Десятки тысяч посетителей.
Есть ненужные Вам вещи? Они кому-то нужны. Продайте их с выгодой!
Новости партнеров
Последние статьи в разделе «Новости в мире»
















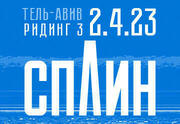











Комментарии: